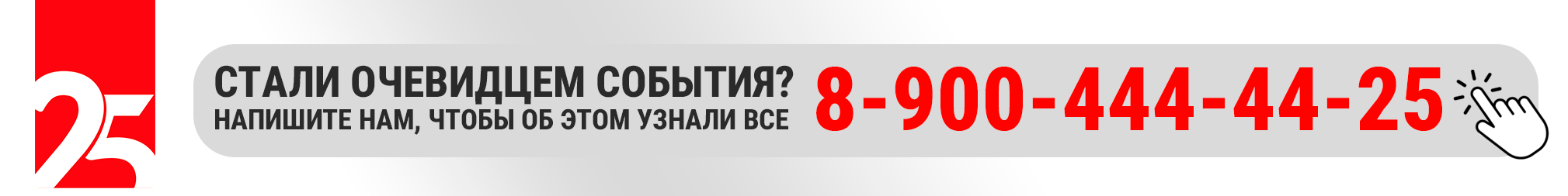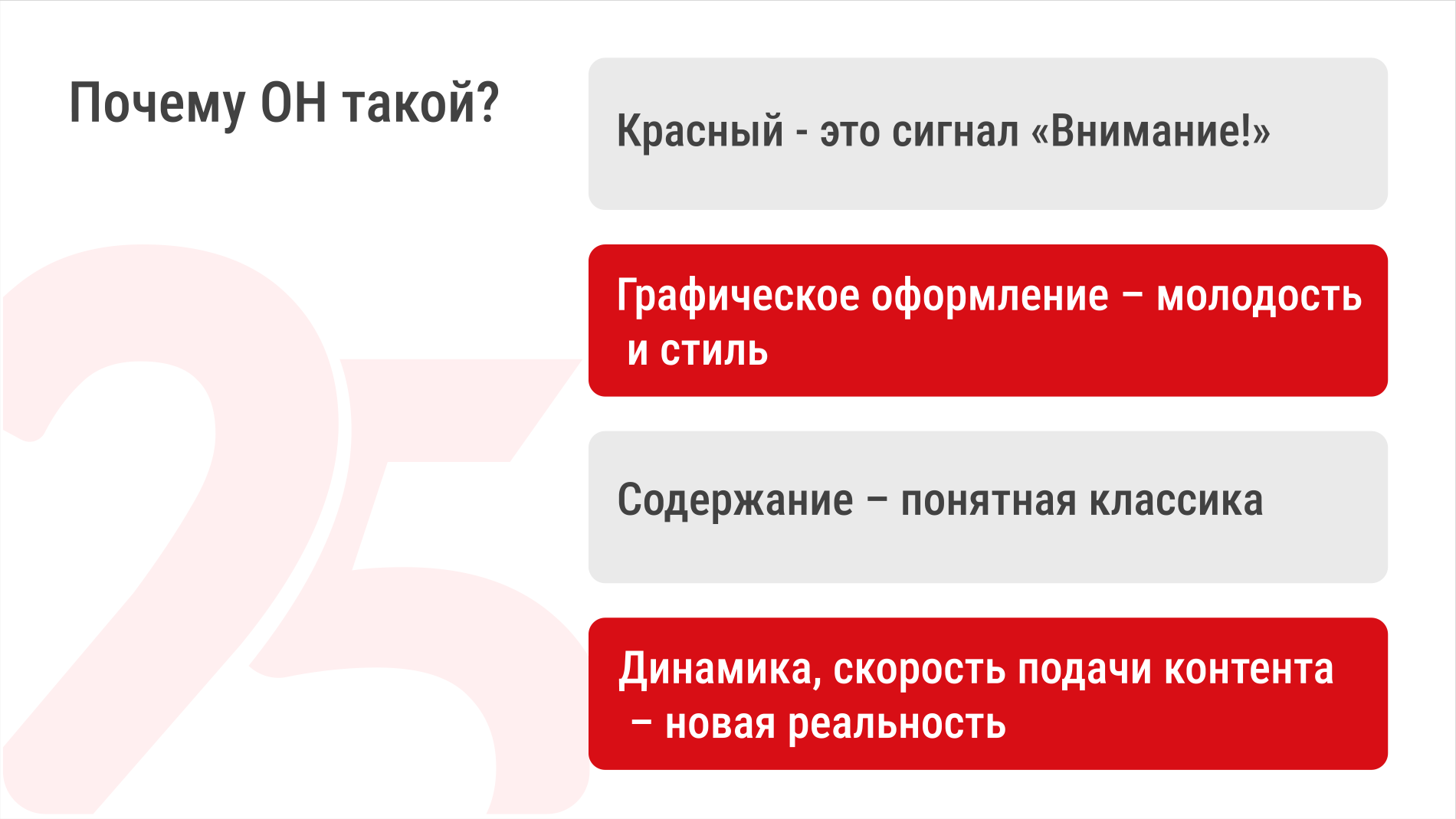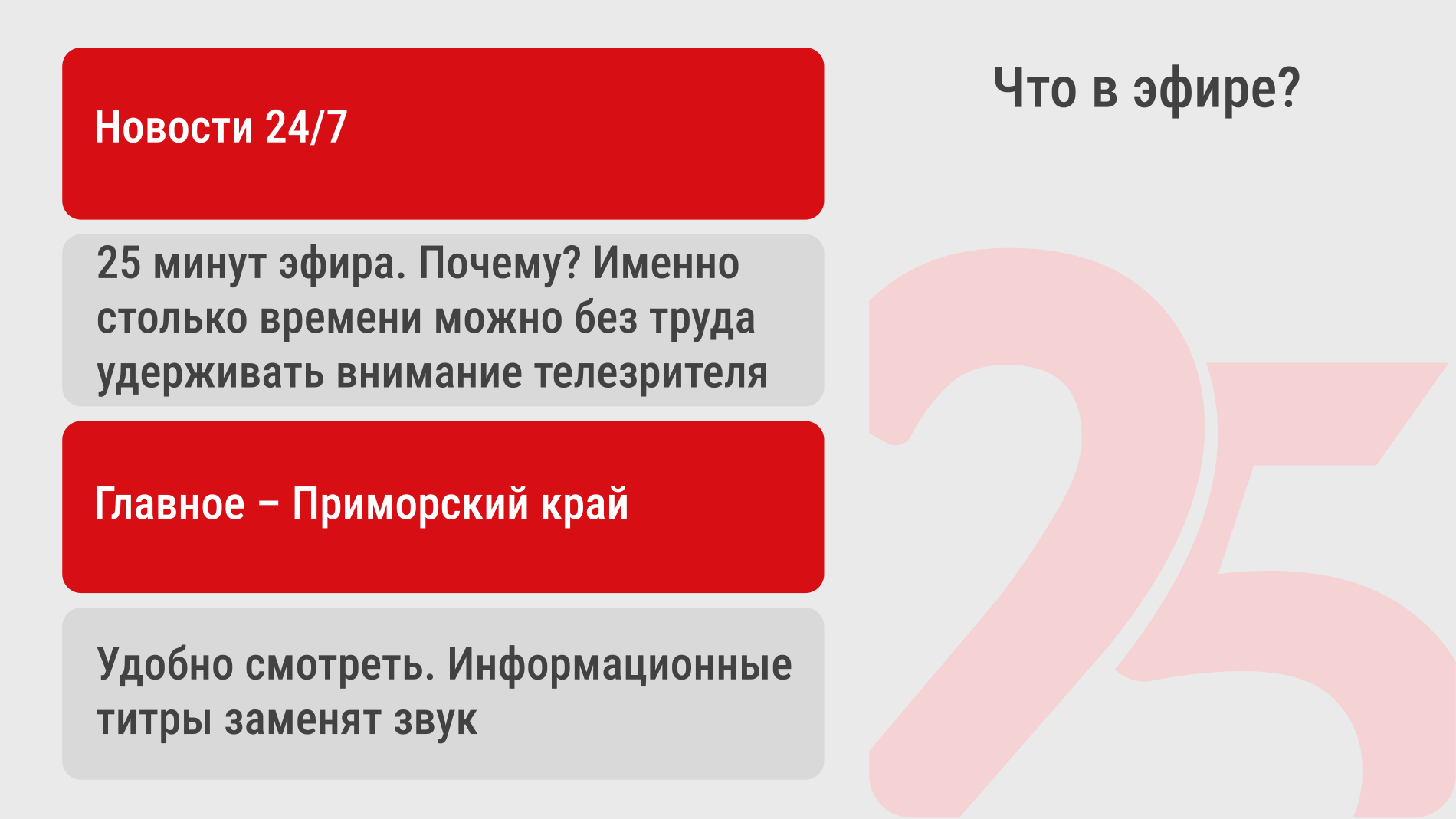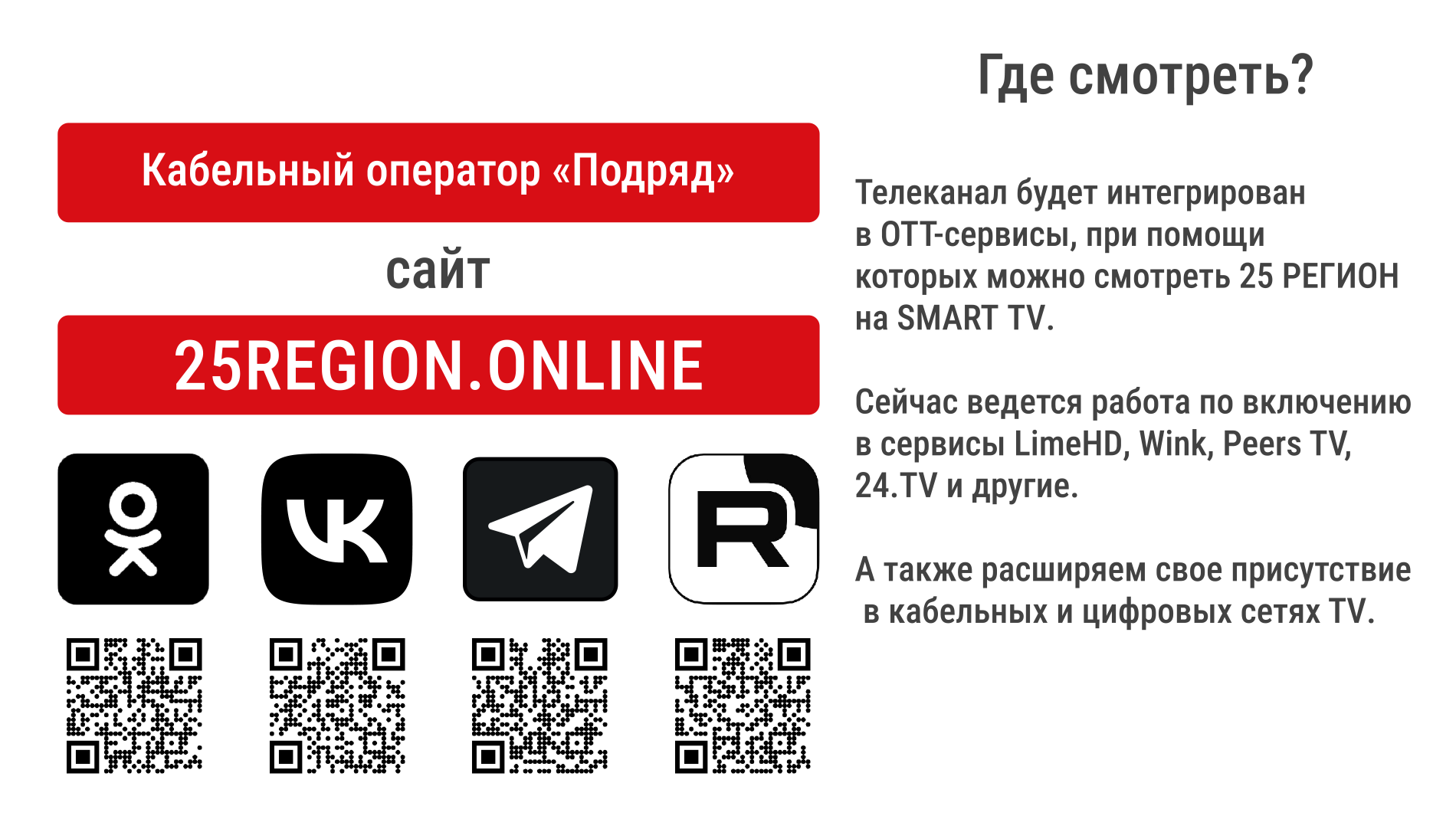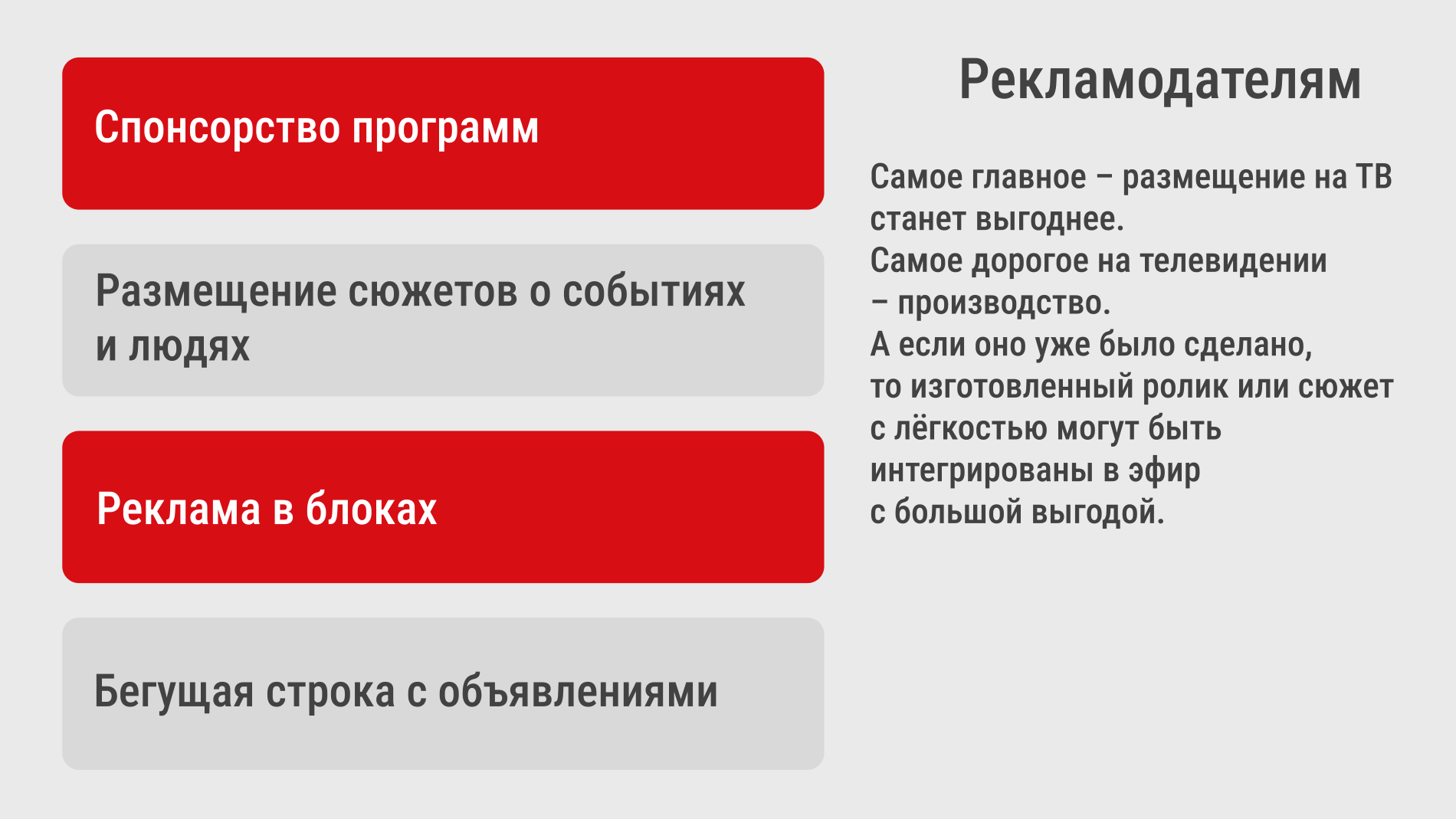Пушкин — наше дальневосточное всё!
Знаменитому стихотворению «19 октября 1825 года» исполнилось 200 лет
Писал ли Пушкин о Дальнем Востоке, а тем более, о Владивостоке? Конечно же нет, ответит любой мало-мальски образованный дальневосточник. Где Пушкин, и где Дальний Восток?! А Владивосток так и вообще был основан спустя четверть века после гибели поэта на дуэли. Такого слова — Владивосток — в русском языке и не было-то при жизни Пушкина…Все мы со школьных лет знаем строки из, наверное, самого знаменитого стихотворения Пушкина «19 октября», которое он написал в 1825 году, будучи в ссылке, к традиционной встрече своих однокашников-лицеистов. «Роняет лес багряный свой убор… Друзья мои, прекрасен наш союз… Отечество нам — Царское Село».
Но это стихотворение куда как длиннее и с особой судьбой, рассказал нам при встрече пушкинист мирового уровня, профессор, доктор филологических наук, долгие годы заведующий научно-организационным центром Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге Алексей Викторович Ильичёв. Кстати, изначально музей Пушкина был основан ещё при Императорском Александровском Лицее 19 октября 1879 года. 19 октября — особая дата.
«В этом стихотворении, которому 200 лет, — говорит профессор Ильичёв, — упомянуты лишь три фамилии: Дельвиг, Горчаков и Пущин. Он так и пишет: «Троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэта дом опальный…».
Главная тема в этом 19 октября 1825-го — «встреча-не-встреча», «встреча-расставание» его лицейских товарищей. Вот мы были вместе много лет — шесть, пока учились, а потом по распределению, как бы мы сегодня сказали, нас всех судьба разбросала. Кто-то по долгу службы был в отъезде, кто-то уже умер, кто-то был в ссылках, как сам Пушкин».
Но некоторые фамилии и даже школярские-лицейские прозвища в этом стихотворении опального и ссыльного поэта были запрещены к опубликованию самым высшим цензором — императором Николаем Первым. Причина простая — поэт в контрах со двором, а его одноклассники-лицеисты уже в высоких госструктурах.
И к одному из неупомянутых Пушкиным своих однокашников относятся те самые дальневосточные строки. Фёдор Фёдорович Матюшкин, выпускник одного года лицея вместе с Пушкиным, Горчаковым, Пущиным, Дельвигом, получал, говоря сегодняшними матрицами, индивидуальный образовательный маршрут. Из всех остальных готовили чиновников и царедворцев; из Матюшкина, наособицу, моряка.
В лицее никто никогда никаких моряков не готовил, но это чудо случилось. И отправился наш герой не в какой-то каботаж, а сразу в кругосветку.
Матюшкин ходил в полярные и кругосветные экспедиции с вице-адмиралом Головниным, описывал Курильские и Шантарские острова. Морская биография Матюшкина пересекалась с людьми, имена которых знает каждый житель Приморья по островам от залива Петра Великого до бухты Провидения у Анадыря, по названиям судов и ледоколов Дальневосточного морского пароходства — Головнин, Рикорд, Врангель, Литке.
В Восточно-Сибирском море есть мыс Матюшкина, на острове Врангеля в Чукотском море есть гора Матюшкина. Так что благодаря адмиралу и сенатору николаевской империи Матюшкину мы можем теперь смело говорить: у Пушкина есть строчка о Дальнем Востоке. «И вечный лёд полунощных морей» — это пушкинское «наше всё» про наши моря, от Арктики до Охотского и Японского.
«Пушкин в этом знаменитом «19 октября» 200 лет тому назад точно писал про наш морской Владивосток, которого при жизни поэта ещё и не было, но с его-то чутьём гения и талантом придворного оппозиционера он-то знал про уже при его жизни принятые решения Российской империи и её царя идти к Тихому океану и закрепиться на его берегах. Он написал, конечно же, в этом стихотворении дальневосточные строчки Матюшкину, не упоминая его, но по большому счёту, он написал и про нас с вами, не упоминая нас».
Пушкин о Владивостоке, которого 200 лет назад еще не было.
И на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
Правильных ответов: * Неправильных ответов: *